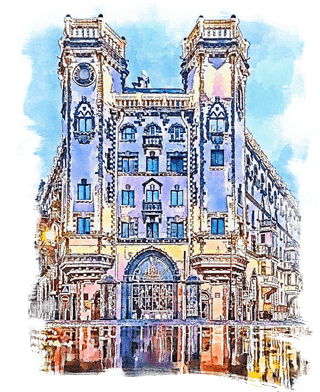Когда смотришь спектакль «Мертвые души», известная поговорка «Как чертик из коробочки вспоминается почти сразу, поскольку постановка молодого режиссера «Русской антрепризы имени А. Миронова» Влада Фурмана состоит всего из этих двух элементов — чертика (он же — Чичиков) и коробочки-станка в центре сцены. Но этих двух составных оказалось вполне достаточно, чтобы выстроить на основе старого сюжета любопытное зрелище.
Чичикова играют сразу трое: Сергей Русскин, Николай Дик и Алексей Федькин. Маска знакомого-презнакомого (кто же из нас со школьной скамьи не знает все про Чичикова?) персонажа, подобно эстафетной палочке, передается артистами из рук в руки, но к лицу каждого из них не прирастает. Напротив, от нее все время хочется избавиться, скинуть. Маска лицу заметно мешает, и в ходе действия ее часто сдергивают: тогда обнажается лицо. У каждого из этих трех актеров свое, но с одним и тем же простодушно-детским выражением: «Сколько же может стоить мертвая душа?»
Эти же три актера играют всех остальных героев. И так ловко, так лихо у них получается... Благодаря их постоянным перевоплощениям, перетеканию из одного образа в другой и обратно, в классической истории обнаруживается новый смысл. Когда артисты манипулируют масками-ролями, между столь отличными, на первый взгляд, гоголевскими образами нащупывается вполне определенная, зримая связь. И Манилов, и Собакевеич, и Плюшкин, Ноздрев Коробочка — это разные слагаемые одного и того же — Чичикова. А Павел Иванович Чичиков в свою очередь синтезирует в себе их всех. При наличии воображения легко представить, что все разыгрываемое перед публикой есть материализация, воплощение его потока сознания, когда однажды Павел Иванович крепко задумался: «Ну сколько же может стоить мертвая душа?»
Кто говорил, что «Мертвые души» — поэма? Гоголь говорил? Чепуху он говорил! Никогда не слушайте Гоголя! Грубая проза жизни — вот что такое «Мертвые души». Причем именно нашей с вами жизни, символами которой вполне способен служить кооперативный ларек, он же черный ящик, он же ораторская трибуна, он же сортир, он же шкатулка с ценностями, он же пустой, лишенный памятника постамент, он же... та самая коробочка, из которой все выскакивают и выскакивают чертики.
Не будет бедным чертикам покоя. Сверкает крупными каплями пот на лбу. Учащается дыхание: «А если на рубли? Да по нынешнему курсу? Не обмануться бы... Кто способен установить душе настоящую цену?
«Пустяк», «ерунда», «ничего не стоит» — цена Манилова.
«Конечно, мертвая душа безделица, но ловкие люди из любой муры обязаны прибыль извлечь!» — вступает в спор Ноздрев.
«Обуза», «убыток» — подает голос на аукционе Плюшкин.
«Да душа — это тебе что, репа, что ли?» — искренне возмущается Собакевич и оказывается самым «душевным» из героев, единственным, кто не прощает предпринимателю Чичикову легкомыслия в обращении с мертвыми душами. И Собакевич с таким жаром расхваливает поименно каждого из ушедших в мир иной, что невольно засомневаешься: а бывают ли вообще души мертвыми? Или, может, одной душе и красная цена в день базарный — карамелька, а другая, пусть даже и «мертвая», дороже всех сокровищ мира?
Но что же это такое — «душа»? Хочется Чичикову хоть ненадолго замедлить темп, избавиться насовсем от надоевшей маски, выйти из дурацкой игры, да не получается. Вертится, вертится вокруг своей коробочки, снует, как заколдованный, то в нее, то из нее обратно, и только где-то там, на периферии сознания, маячит у него мимолетными, едва уловимыми полупроблесками: «А со своей, с живой душой, как быть? Она здесь что-нибудь значит?»
Все точки над «i» расставит... конечно же, Коробочка. Фантасмагорическое, инфернальное, и в то же время живое, реальное воплощение пресловутой коробочки. Уж кто-кто, а она знает законы нашей экономики. В период рынка мыслить следует ультра временно: «Вот понаедут купцы, тогда и...» Душа ли и в торг, пенька ли — разница невелика. Рынок, господа, на то и рынок, чтобы со всеми, и с нашими душами тоже, наконец, разобраться можно было.
В финале спектакля чертики-Чичиковы выстроятся в ряд перед зрителями — усталые, понурые, обессиленные. Посмотрят растерянно в зал. «Что же дальше?» А ничего, спектакль оборвется на полуслове, яркого, четкого окончания режиссер придумать не захотел. Но что касается всего предыдущего, то в постановке Влада Фурмана не видно и следа ученичества.
Тщательно разработана новая партитура. Остроумные, изящные режиссерские находки возникают одна за другой, но не заслоняют собой содержание рассказа. Очень трудная работа выпала здесь на долю молодых артистов, и это благо для них, так как каждый получил возможность проявить мастерство. Самым большим достоинством спектакля стало то, что Влад Фурман рискнул заговорить со зрителями на своем театральном языке, а на такое и среди более зрелых режиссеров способны очень немногие.
Чичикова играют сразу трое: Сергей Русскин, Николай Дик и Алексей Федькин. Маска знакомого-презнакомого (кто же из нас со школьной скамьи не знает все про Чичикова?) персонажа, подобно эстафетной палочке, передается артистами из рук в руки, но к лицу каждого из них не прирастает. Напротив, от нее все время хочется избавиться, скинуть. Маска лицу заметно мешает, и в ходе действия ее часто сдергивают: тогда обнажается лицо. У каждого из этих трех актеров свое, но с одним и тем же простодушно-детским выражением: «Сколько же может стоить мертвая душа?»
Эти же три актера играют всех остальных героев. И так ловко, так лихо у них получается... Благодаря их постоянным перевоплощениям, перетеканию из одного образа в другой и обратно, в классической истории обнаруживается новый смысл. Когда артисты манипулируют масками-ролями, между столь отличными, на первый взгляд, гоголевскими образами нащупывается вполне определенная, зримая связь. И Манилов, и Собакевеич, и Плюшкин, Ноздрев Коробочка — это разные слагаемые одного и того же — Чичикова. А Павел Иванович Чичиков в свою очередь синтезирует в себе их всех. При наличии воображения легко представить, что все разыгрываемое перед публикой есть материализация, воплощение его потока сознания, когда однажды Павел Иванович крепко задумался: «Ну сколько же может стоить мертвая душа?»
Кто говорил, что «Мертвые души» — поэма? Гоголь говорил? Чепуху он говорил! Никогда не слушайте Гоголя! Грубая проза жизни — вот что такое «Мертвые души». Причем именно нашей с вами жизни, символами которой вполне способен служить кооперативный ларек, он же черный ящик, он же ораторская трибуна, он же сортир, он же шкатулка с ценностями, он же пустой, лишенный памятника постамент, он же... та самая коробочка, из которой все выскакивают и выскакивают чертики.
Не будет бедным чертикам покоя. Сверкает крупными каплями пот на лбу. Учащается дыхание: «А если на рубли? Да по нынешнему курсу? Не обмануться бы... Кто способен установить душе настоящую цену?
«Пустяк», «ерунда», «ничего не стоит» — цена Манилова.
«Конечно, мертвая душа безделица, но ловкие люди из любой муры обязаны прибыль извлечь!» — вступает в спор Ноздрев.
«Обуза», «убыток» — подает голос на аукционе Плюшкин.
«Да душа — это тебе что, репа, что ли?» — искренне возмущается Собакевич и оказывается самым «душевным» из героев, единственным, кто не прощает предпринимателю Чичикову легкомыслия в обращении с мертвыми душами. И Собакевич с таким жаром расхваливает поименно каждого из ушедших в мир иной, что невольно засомневаешься: а бывают ли вообще души мертвыми? Или, может, одной душе и красная цена в день базарный — карамелька, а другая, пусть даже и «мертвая», дороже всех сокровищ мира?
Но что же это такое — «душа»? Хочется Чичикову хоть ненадолго замедлить темп, избавиться насовсем от надоевшей маски, выйти из дурацкой игры, да не получается. Вертится, вертится вокруг своей коробочки, снует, как заколдованный, то в нее, то из нее обратно, и только где-то там, на периферии сознания, маячит у него мимолетными, едва уловимыми полупроблесками: «А со своей, с живой душой, как быть? Она здесь что-нибудь значит?»
Все точки над «i» расставит... конечно же, Коробочка. Фантасмагорическое, инфернальное, и в то же время живое, реальное воплощение пресловутой коробочки. Уж кто-кто, а она знает законы нашей экономики. В период рынка мыслить следует ультра временно: «Вот понаедут купцы, тогда и...» Душа ли и в торг, пенька ли — разница невелика. Рынок, господа, на то и рынок, чтобы со всеми, и с нашими душами тоже, наконец, разобраться можно было.
В финале спектакля чертики-Чичиковы выстроятся в ряд перед зрителями — усталые, понурые, обессиленные. Посмотрят растерянно в зал. «Что же дальше?» А ничего, спектакль оборвется на полуслове, яркого, четкого окончания режиссер придумать не захотел. Но что касается всего предыдущего, то в постановке Влада Фурмана не видно и следа ученичества.
Тщательно разработана новая партитура. Остроумные, изящные режиссерские находки возникают одна за другой, но не заслоняют собой содержание рассказа. Очень трудная работа выпала здесь на долю молодых артистов, и это благо для них, так как каждый получил возможность проявить мастерство. Самым большим достоинством спектакля стало то, что Влад Фурман рискнул заговорить со зрителями на своем театральном языке, а на такое и среди более зрелых режиссеров способны очень немногие.